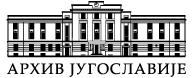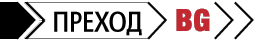Бенджамин Натанс Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака «Все было навечно, пока не кончилось» (авторизованный пер. с англ. Н. Мовниной). - НЛО, 2010, №101
«НЛО» 2010, №101
Кевин М.Ф. Платт, Бенджамин Натанс
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПО ФОРМЕ,
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ:
позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака
“Все было навечно, пока не кончилось”
Как он утверждает, крушение советской системы было полностью герметичным, замкнутым процессом, при котором “чем больше повсюду воспроизводились неизменные формы авторитетного дискурса системы, тем более глубокий внутренний сдвиг она испытывала” <…> Надо быть очень приверженным вере в “главенство языка”, чтобы согласиться с представлением о том, что “глубокий внутренний сдвиг” в советской системе, приведший к ее крушению, имел только дискурсивные причины.
Шейла Фицпатрик
На самом деле, моя книга не утверждает ни главенства языка, ни того, что внутренний сдвиг поздней советской системы произошел только из-за “дискурсивных причин”. Вместо этого я говорю, что такой сдвиг был результатом определенного отношения между авторитетным дискурсом и формами социальной реальности, которые он не мог описать. Более того, объект анализа в книге — это не “причины крушения, а… условия, которые сделали возможным это крушение, но не позволили его предвидеть”. Вопрос не в том, что привело к крушению, а в том, почему оно оказалось неожиданным.
Алексей Юрчак
Наш первый эпиграф взят из опубликованной в журнале “London Review of Books” рецензии известного историка Шейлы Фицпатрик на книгу Алексея Юрчака “Все было навечно, пока не кончилось: Последнее советское поколение”. Фицпатрик критикует Юрчака за то, что он предлагает чрезмерно “постмодернистское” объяснение распада СССР, поскольку связывает конец этого строя с особыми дискурсивными условиями позднесоветской социальной жизни. В ответе на рецензию (цитата из которого приведена в нашем втором эпиграфе) он возражает против тех характеристик, которые Фицпатрик дает его теоретическим аргументам и его трактовке конца советской системы. Как утверждает Юрчак, его “постмодернистская” позиция состоит не в том, что язык является единственной реальностью, а в том, что официально санкционированный публичный дискурс — “авторитетный дискурс”, “авторитетное слово”, если использовать предпочитаемое Юрчаком бахтинское понятие, — утратил свое место в многообразной социальной реальности позднего советского общества, став, как выражается автор, “детерриториализованным”. Кроме того, Юрчак намеревался объяснить не само крушение, а “условия, которые сделали возможным это крушение, но не позволили его предвидеть”. В отличие от прежних исследований на эту тему, книга Юрчака показывает, как советский авторитетный дискурс, дискурс власти, оказался опустошен изнутри, став — если иронически переиначить большевистскую формулу национальной культуры — социалистическим по форме и неопределенным по содержанию. Верное своим исходным принципам социалистическое общество, к которому этот дискурс отсылал, редуцировалось до некой внешней оболочки, и в конечном итоге официальный публичный язык и идеалы рассыпались под давлением новых политических импульсов, спровоцированных неудачными горбачевскими реформами. Если оставить в стороне связь этого дискурсивного краха с падением СССР in toto, мы пока что должны согласиться с тем ответом, который Юрчак дает Фицпатрик.
Однако последнее замечание в вышеприведенной цитате из ответа Юрчака заставило задуматься и стало стимулом к созданию этого эссе. Полностью признавая ценность осуществленного Юрчаком новаторского анализа социальной жизни поздней советской эпохи и с должным уважением относясь к той точке зрения, что не каждая книга об этой эпохе должна объяснять ее неожиданное завершение, следует все же заметить, что аргумент, касающийся “условий, которые сделали возможным это крушение”, уже по определению содержит, по крайней мере, частичное объяснение того, “что привело к этому крушению”. Далее, нам кажется, что подразумевающееся в рецензии Фицпатрик различие между “языком” и “другими аспектами социальной жизни” скорее затемняет дело, чем помогает его понять. (Честно говоря, мы считаем, что это различие ложное1.) Как демонстрирует материал Юрчака, сдвиг советского авторитетного дискурса сопровождался другими дискурсивными, экономическими и социальными формами поведения, которые уже давно рассматриваются в качестве предпосылок крушения советской системы. Прежде всего, это безразличное отношение к работе, о котором свидетельствуют не только случаи, имеющие, как кажется, маргинальный характер, когда талантливые люди растрачивали себя на работе в “котельной”, но и гораздо более распространенные примеры прогулов, распития алкоголя на рабочем месте, занятия личными делами в рабочее время и т.д. Далее, стоит упомянуть общую незаинтересованность в исправлении недостатков социалистической экономики, что способствовало росту коррупции и повышению значимости неформальных экономических отношений. Наконец, одним из решающих факторов было и возникновение все большего количества интенсивно функционирующих внутренних миров, где складывались понятия и формы деятельности, которые не умещались в границы узко определенных коллективных интересов социалистического общества (причем этот последний феномен, собственно, и является предметом работы Юрчака).
Книга “Все было навечно...” исходит из главного парадокса, заключающегося в том, что, “хотя крушение системы было невозможно представить, пока оно не началось, оно никого не удивило, когда произошло”2. Строго говоря, это не совсем точно, поскольку такие диссиденты, как Андрей Амальрик, утверждали уже в конце 1960-х, что Советский Союз едва ли просуществует дольше конца двадцатого столетия. Но Амальрик и другие предрекали катастрофический конец в виде войны с Китаем — что совсем непохоже на тот относительно мирный обвал, который имел место на самом деле. С этой точки зрения отмеченный Юрчаком парадокс остается в силе. Тем не менее вряд ли его можно рассматривать как нечто уникальное для поздней советской системы. Алексис де Токвиль так описал революцию 1789 года: “...не было еще событий столь же великих, долго вызревавших, лучше подготовленных и наименее предвиденных”3. Писавший в 1913 году, за год до мировой войны, в результате которой возникло государство Чехословакия, его будущий первый президент Томас Масарик утверждал: “…я глубочайшим образом заинтересован в том, чтобы мы сделали Австрию лучше, именно потому, что я не могу позволить себе мечтать о ее крахе и знаю, что, хорошая или плохая, она будет существовать”4. Как напоминают нам эти примеры, в нововременную эпоху моменты исторических перемен часто схожи с обвалами рынков или классическими трагедиями — это непредставимые (по крайней мере, если следовать расхожим мнениям) катастрофы, которые начинают казаться неизбежными только тогда, когда их можно видеть задним числом, в ретроспективе.
Возможно, нежелание Юрчака признать, что его анализ социальных и дискурсивных параметров позднесоветской эпохи имеет отношение к объяснению падения Советского Союза, отражает его стремление опираться на археологическую модель Фуко, которая избегает причинного и сравнительного анализа и ставит вместо этого целью уловить “сбои” в дискурсивном порядке5. Конечно, то “частичное” объяснение крушения советской системы, которое присутствует у Юрчака, вращается вокруг именно такого дискурсивного сбоя — сбоя, инициированного проектами горбачевских реформ, которые, согласно Юрчаку, заново ввели в эту систему голос внешнего комментатора или редактора от идеологии, который может предоставить экспертный метадискурс, от лица “объективного научного знания”, находящегося за пределами поля авторитетного дискурса6. По всей вероятности, сопротивление, которое вызывает у Юрчака попытка Фицпатрик связать его анализ социальной жизни поздней советской эпохи с объяснением крушения советской системы, отсылает к тому настойчиво акцентируемому им тезису, что альтернативные социальные реальности, которые он описывает, не были ни оппозиционными, ни политически нагруженными7. Одна из его ключевых категорий, “вненаходимость”, представляет собой “позицию, которая пребывала одновременно внутри и снаружи риторического поля [авторитетного] дискурса и не являла собой ни поддержку власти, ни оппозицию […]. Она оспаривала границы и бинарные оппозиции, и становилась динамическим пространством производства новых значений”8. “Вненаходимость”, которую Юрчак утверждает в качестве принципиального модуса социальной жизни значительной части “последнего советского поколения” — тех, кто сам себя называет “нормальными людьми”, — явным образом избегала крайностей партийного активизма и диссидентства, с их политическими установками соответственно за или против государства. Тем не менее, как будет показано ниже, мы не разделяем нежелание Юрчака исследовать исторические последствия феноменов, которые он так искусно описал. Мы связываем с его анализом более масштабные задачи — а также предлагаем некоторые его модификации. Настоящее эссе — это попытка историзации позиции “вненаходимости” путем альтернативного описания не только импликаций особых социальных и дискурсивных условий поздней советской эпохи, но также и их истоков. Вдохновляясь пионерской работой Юрчака, а также некоторыми другими важными исследованиями, которые были недавно осуществлены в рамках различных дисциплин, мы предлагаем набросок — ряд гипотез, которые должны быть проверены дальнейшим исследованием.
* * *
Рассмотрим один характерный пример. Движущим стимулом произведения, прославившего Наталью Баранскую, ее повести “Неделя как неделя”, написанной в 1969 году, является демографическая анкета, целью которой было документально зафиксировать использование времени советской работающей женщиной — то, что в отделах кадров называли “увязкой личной жизни и работы”, — где особое внимание уделялось отношению к деторождению. Повесть представляет собой ответ на эту анкету обычной женщины — героини Баранской, Ольги Николаевны Воронковой; она написана как совершенно откровенный дневник событий обычной недели, начиная с поездок в общественном транспорте, конфликтов и успехов на работе, политзанятий и кончая детскими болезнями и супружеской жизнью. В нынешних академических трактовках этого произведения основное внимание обычно уделяется тому, как в нем показаны проблемные стороны женской жизни в позднесоветскую эпоху. Признавая, что именно это и есть ключевой аспект повести и (возможно, в соответствии с авторским замыслом) ее главная тема, мы будем здесь рассматривать эту повесть как показатель общих тенденций в социальной истории позднего советского периода9.
Повесть Баранской демонстрирует, что социологическое исследование в принципе не способно адекватно отображать и представлять повседневную жизнь. Когда Ольга впервые увидела анкету, лежащую на столе, она обнаружила, что на ней от руки написано ее имя. Указывает ли это просто на небрежность тех, кто проводил этот опрос, или на их незаинтересованность в сохранении анонимности анкетируемых, уже одна эта надпись позволяет усомниться в том, насколько объективно Ольга может сообщать личные сведения деликатного характера. Повесть “Неделя как неделя” рассматривает не только вызовы, с которыми люди сталкиваются в советской повседневной жизни per se, но и проблему фиксации этих вызовов — регистрирования индивидуального опыта в статистических отчетах, в “научных” исследованиях или же в политически нагруженных категориях публичного языка, которые должны быть наполнены реальным содержанием при помощи анкетирования. Таким образом, повесть является размышлением о конфронтации и разъединении, существующих между индивидуальным опытом и советским господствующим дискурсом, — она представляет тот момент 1960-х годов, когда напряжение между этими двумя областями советской социальной жизни несколько ослабло. Как мы покажем ниже, зазор между публичным языком и индивидуальным опытом, зафиксированный в повести Баранской, является ключевым моментом в предыстории “вненаходимости”, о которой пишет Юрчак.
Ключевой сценой повести, где представлен этот трудный вопрос, оказывается эпизод, когда во вторник Ольга приходит в свою лабораторию и обнаруживает, что там идет какое-то собрание. Ее первая реакция — предположить, что это официальное собрание (о котором она почему-то забыла). Вторая реакция — это страх, что, возможно, предметом горячего обсуждения сотрудников является она сама. Как выясняется, оба заключения справедливы лишь наполовину. Коллектив лаборатории обсуждает анкету — инструмент, балансирующий на грани между официальным знанием и личным опытом; речь идет об исследовании жизни женщин вообще, направленном на то, чтобы проникнуть в индивидуальную жизнь самой Ольги. Как объясняет Марья Матвеевна, самая старшая в коллективе: “Зинаида Густавовна подняла интересный вопрос: станет ли женщина, разумеется, советская женщина, руководствоваться общенародными интересами в таком деле, как рождение детей”. Этот “интересный вопрос”, как мы узнаем, был вызван вопросом самой анкеты: “Если вы не имеете детей, то по какой причине: медицинские показания, материально-бытовые условия, семейное положение, личные соображения и пр. (нужное подчеркнуть)”. Герои повести интерпретируют анкету не только как попытку перевода частного опыта в сферу публичного знания, но и как отражение “официального” интереса к тому, чтобы добиться согласования индивидуального опыта и решений с общественными целями и ценностями — в данном случае с задачей предотвращения в СССР демографического спада. На самом деле, анкета свидетельствует о желании государства применять к самым интимным сферам жизни коллективистские принципы, согласно которым члены группы принимают цели и ценности целого в качестве своих собственных, интернализируют установки коллектива.
Возникшая в результате дискуссия представляет целый спектр ответов на этот вопрос. Некоторые считают внедрение анкеты в сферу семейного планирования prima facie неуместным, “чудовищной бестактностью”. Другие, по-видимому, полностью отождествляются с идеей, что индивидуальная жизнь должна координироваться с общенародными интересами — так, мать-одиночка говорит: “Надо же искать выход из серьезного и даже опасного положения — демографического кризиса”. Кто-то замечает, что, поскольку в анкете имплицитно допускается разрыв между индивидуальными и общественными интересами, это подтверждает невозможность их совмещения: “составители в качестве причин отказа от ребенка выдвигают в основном личные мотивы”, а значит, они признают, что каждая семья, заводя ребенка, руководствуется соображениями личного плана, стало быть, “повлиять на это дело никакими демографическими обследованиями не удастся”. Другие утверждают, что государственная политика может повлиять на решения, касающиеся планирования семьи, изменяя “материально-бытовые условия”, чтобы еще больше “раскрепостить женщину”, или просто платя женщине за то, что она рожает, как делается “во Франции”. В то же время другие члены коллектива выражают негодование по поводу последнего предложения, которое, по их мнению, сводит решение человеческой проблемы к экономическим механизмам, более подходящим для свинофермы, что типично для “капитализма”. Ольга, однако, разыгрывает спектакль:
Я поднимаю руку — внимание! — и становлюсь в позу.
— Товарищи! Дайте слово многодетной матери! Заверяю вас, что я родила двоих детей исключительно по государственным соображениям. Вызываю вас всех на соревнование и надеюсь, что вы побьете меня как по количеству, так и по качеству продукции!..
Эта речь должна была “их насмешить, да на этом и кончить споры”, но достигает совершенно противоположного эффекта. Женщины начинают кричать, перебивая друг друга и обмениваясь язвительными замечаниями, что Марья Матвеевна называет “базаром”.
В целом можно сказать, что Ольга и ее коллеги не только обсуждают разрыв между властным дискурсом и жизнью человека, но и наглядно иллюстрируют его, инсценируя трансформацию “научного языка” анкеты в то, что Ольга ретроспективно описывает как “бабий разговор”. Само выступление Ольги иронически обыгрывает расхождение дискурсивных сфер; она демонстрирует абсурдность официальных ценностей и языка, когда те буквально прилагаются к интимной жизни (позже Ольга признается, что ее второй ребенок был незапланированным). В то же самое время ее речь осуществляет пародийную контратаку “бабьего разговора” — языка кухни — против официальных ценностей при помощи снижающего юмора. Здесь многое резонирует с тем анализом поздней советской социальной жизни, который предпринимает Юрчак. Для Ольги авторитетный язык (по крайней мере в том, как он прилагается к личной жизни) в самом деле выхолощен, смещен — или, возможно, просто неуместен. В ряду дискурсивных возможностей, артикулированных ее сослуживцами, Ольга выбирает проблематичную “срединную” позицию. На одной стороне “активисты”, которые настаивают на применимости советского авторитетного языка и идеалов к личным вопросам (“Надо же искать выход из <…> демографического кризиса”). На другой стороне те, кто хочет совсем изгнать государство из личной жизни (его вмешательство — “чудовищная бестактность”). Ольга и некоторые другие признают, что авторитетный дискурс тяготеет над их личной жизнью, но также — что он плохо подходит к этой сфере. Тем не менее их ответ состоит не в поиске компромисса, а скорее в отказе принимать какую-либо сторону. Эта срединная позиция выражается при помощи стеба, речевой стратегии, которая позволяет драматизировать дискурсивное несоответствие, не предлагая того или другого ее разрешения. Отсюда шутки насчет “плана по детям” (одна из активисток принимает их всерьез), который можно “выполнить”, имея по крайней мере двоих отпрысков10. Аналогичным образом, когда неподготовленная Ольга вынуждена говорить на обязательном для посещения политзанятии, она пародирует официальный дискурс тем способом, который Юрчак называет “перформативным”: “Противоречия антагонистические, неантагонистические... Отсутствие противоречий... Пережитки. Примеры: пьянство, хулиганство...” Далее, повесть прозрачно намекает на то, что Ольга и большинство ее сослуживцев считают политзанятия пустой формальностью. Этим явным отсутствием “идейной зрелости”, что и подтверждается стебом, позиция Ольги и напоминает “вненаходимость” Юрчака.
Однако сходство имеет только частичный характер. У Юрчака в анализе социальных практик 1970-х и 1980-х годов “вненаходимость” — это в целом непроблематичная и ничем не выделяющаяся позиция, конструируемая, по существу, как “нормальная”. Позиция Ольги в 1960-е годы, напротив, наполнена напряжением все еще неразрешимого противоборства между языком и идеалами всего общества, с одной стороны, и личной жизнью, с другой. Несмотря на творческий театрализованный момент ее промежуточный опыт в этом дискурсивном контексте не содержит ни самовыражения, ни богатства альтернативных значений, но скорее остается неудобным и напряженным. Действительно, содержание повести в основном демонстрирует неразрешимую рассогласованность общих интересов и самого языка советского общества с личной жизнью и голосом индивида. Как мы подробнее покажем ниже, с нашей точки зрения, дискурсивное противоборство, проиллюстрированное в истории Баранской, отражает то, как с закатом эпохи оттепели развивались отношения между институциями государственного контроля и индивидуальной жизнью. Чтобы понять, как эти неустойчивые отношения в итоге привели к возникновению более стабильного, “нормального” положения вещей, которое описано в работе Юрчака, надо коротко обратиться к другим недавно появившимся исследованиям об эпохе оттепели.
Как утверждает Олег Хархордин в своей книге “Обличать и лицемерить”, рассуждая о соотношении коллективных и индивидуальных начал в российском прошлом, оттепель может рассматриваться как такой момент в развитии советского порядка, когда общество, ранее в большой степени опиравшееся для поддержания порядка и достижения общественных и политических целей на принуждение, насилие и террор, обратилось к альтернативному пути социальной организации, а именно к опоре на сам коллектив. Как утверждает Хархордин, все большее распространение в советском обществе таких институций, как дружины, товарищеский суд, и таких практик, как взаимное наблюдение и поддержание порядка среди коллег и внутри однородных групп, отражает возрастающее стремление советских социальных институций опираться на коллектив, чтобы лучше ориентировать поведение индивидов на интересы общества в целом. Книга Хархордина, которая, как и в работа Юрчака, вдохновляется выдвинутой Фуко концепцией рассеивания власти в структурах и дискурсах современных обществ, представляет собой весьма необычную интерпретацию эпохи оттепели. Мы должны рассматривать эти годы не как попытку либерализации советского общества, пусть даже несовершенную, а как поворот к менее очевидному и насильственному, действующему более незаметно, но столь же эффективному средству осуществления контроля над людьми.
Начавшаяся после 1953 года либерализация — изображаемая обычно как уменьшение власти госбезопасности и конец централизованного террора — сопровождалась глубокой консолидацией таких практик, которые многие западные комментаторы назвали “общественным контролем” или “общественным давлением”: практики взаимного наблюдения тогда крайне интенсифицировались и одной из основных практик стало “увещевание”11.
Такой пересмотр советской истории во многом полезен. Однако не следует заходить здесь слишком далеко. Оттепель не только привела к постепенному установлению коллективистского контроля, но и, несомненно, открыла доступ к пространству индивидуальной автономии как одному из благ, которое зрелое социалистическое общество должно обеспечить своим гражданам. В самом деле, в теории коллектива, как она представлена в поздних советских обществоведческих исследованиях, речь идет не о том, что индивиды должны просто подчинять свои интересы интересам общества в целом, а о том, что они до такой степени должны идентифицировать себя с более масштабными целями общества, чтобы принимать их уже в качестве своих собственных12. На менее абстрактном уровне становится очевидно, что модель индивидуального поведения и конструирования идентичности, которая в конце 1950-х и 1960-х стала распространенной в СССР (или, по крайней мере, в его городских центрах), была моделью “современных” мужчин и женщин, индивидуальный стиль, жизненное пространство и интеллектуальная жизнь которых предполагали повышенную степень личной и профессиональной автономии. Как недавно отметили Виктор Воронков и Ян Вилгос (Wielgohs), “основной чертой” послесталинского перехода был “частичный отказ государства от притязаний на управление повседневной жизнью”. Он проявлялся в том, что социалистическое общество открылось культурному и интеллектуальному обмену с Западом, был частично и непоследовательно упразднен политический надзор за культурной, профессиональной и научной деятельностью, гораздо шире стали производиться товары народного потребления и возникать новые, связанные с этими товарами, способы формирования собственного я, происходило массовое строительство уже отдельных, а не коммунальных квартир, благодаря которым для миллионов советских граждан стала возможной частная жизнь в прямом смысле. В какой-то мере все это отражало международные экономические, демографические и эстетические процессы, возобладавшие в советской политике и общественной сфере вследствие изменившихся геополитических реальностей холодной войны, которые вынудили Советский Союз вступить с Западом в соревнование за то, чтобы предложить миру более жизнеспособную и привлекательную версию современной жизни. В совокупности эти тенденции привели к быстрому появлению сферы автономной общественной жизни, которая во многих отношениях напоминала то, что можно было бы назвать “частной жизнью” в либеральном обществе, — сферы, которая так настойчиво исследуется в повести Баранской.
Еще одно появившееся недавно исследование общественной жизни эпохи оттепели, сосредоточенное на конкретной теме, также может пролить свет на эти процессы, поскольку оно показывает, что в позднюю советскую эпоху личная жизнь не была ни полностью “частной”, ни полностью автономной. В статье, посвященной разводу в послесталинский период, Дебора A. Филд (Field) описала разрыв между публично артикулированными “личностными ценностями” и актуальными практиками в частной сфере. С одной стороны, “Моральный кодекс строителя коммунизма”, провозглашенный на XXII партийном съезде в 1961 году, выражал официальную веру в единый, однозначный стандарт этического поведения в частной и общественной жизни: это “нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни” и “взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей”. На протяжении всего этого периода брошюры, посвященные семейной жизни и человеческим отношениям, прямо проецировали коллективистские принципы на наиболее интимные аспекты человеческого опыта: “Для советского человека, у которого сознательность и общественная целеустремленность пронизывают всю его жизнь, не может быть непримиримого конфликта между чувством и разумом: порывы сердца должны сдерживаться требованиями разума и долга”13. С другой стороны, исследование Филд демонстрирует, что советские мужчины и женщины и даже судьи, выносившие решения на слушаниях по разводу (несмотря на подразумеваемое обязательство применять принципы коммунистической морали), все чаще склонялись к тому, чтобы относить романтическую привязанность к неуправляемой сфере личной жизни и даже признавать за этой сферой sui generis ее собственную легитимность, которая часто оказывалась сильнее социального и юридического императива сохранять семьи в интересах воспитания детей или поддержания строгих моральных стандартов. В этой связи можно отметить, что тогда исчезла и прежняя советская практика — объявлять обо всех разводах в газетах, в результате чего был ликвидирован важный механизм подчинения семейной жизни и личной нравственности общественному наблюдению14. Филд также демонстрирует, насколько изощренно советские мужчины и женщины могли манипулировать авторитетным дискурсом для достижения личных целей — таких, как урегулирование конфликтов, связанных с собственностью, или даже месть за супружескую неверность. Филд приходит к заключению, что “в некоторых случаях усилия, направленные на то, чтобы привить коммунистическую версию частной жизни, только укрепляли противоположные идеи: суды и партийные организации, которые должны были проводить коммунистическую мораль на практике, предоставляли в распоряжение людей новые средства, при помощи которых они могли добиваться реализации своих личных интересов, [в целом] считавшихся пережитками”15.
Помня об этих предпосылках, можно попытаться наметить историческую траекторию, которая связала бы частную публичную сферу, изображенную в повести Баранской, с процессом детерриториализаций, как ее описывает Юрчак. Когда социалистическое общество от принуждения и террора перешло к коллективизму и надзору за самим собой как главным средствам общественного контроля (одновременно пересматривая концепции современной личности в новом международном контексте холодной войны16), проблема личной жизни встала самым настоятельным образом. Сколько автономии может быть предоставлено индивиду, чтобы это не угрожало политической стабильности государства или проекту построения коммунистического общества? До какой степени можно доверять индивидам, что они будут использовать новоприобретенные свободы в интересах общества или по крайней мере с намерениями, не противоречащими официально принятым целям? К концу 1960-х годов такие вопросы стали вполне реальными в свете появления самиздата и диссидентства. Ибо те же самые социальные процессы, о которых мы писали выше, были существенными предпосылками для появления неофициальных сетей социального обмена, включая самиздат, которые Воронков и Вилгос называют “частной публичной сферой” (в отличие от официальной публичной сферы), — что и сделало возможным появление движения за гражданские права и права человека. Из опыта 1960-х годов советские лидеры узнали, что, когда некоторые советские мужчины и женщины получают физическое пространство и личную автономию для реализации личных интересов и выработки независимых идеалов, они проецируют свои альтернативные дискурсы, идеалы и политические цели обратно на общество в целом. Короче говоря, возникновение проблематичного социального пространства личной автономии в эпоху оттепели проложило путь как к диссидентству, так и к альтернативным социальным мирам, описанным в книге “Все было навечно...”. В то время как Юрчак настаивает на несовместимости двух этих способов нонконформистского поведения, мы ставим вопрос: как они были связаны друг с другом?
* * *
Не стремясь в своей работе понять причины крушения советской системы, Юрчак в конце концов отдает предпочтение функционалистскому подходу перед интенционалистским. Большинство граждан СССР, утверждает он, не сопротивлялись советскому авторитетному дискурсу, а просто участвовали в опустошении его семантического содержания (Юрчак называет это “детерриториализацией” [в связи с “вненаходимостью”]). В конечном счете именно это куда серьезней подорвало существующий порядок (хотя это не было столь явным и не имело сознательного оппозиционного намерения), чем прямая критика таких диссидентов, как Андрей Сахаров или Александр Солженицын. По этому поводу Александр Зиновьев, язвительный сатирик поздней советской действительности, написал совсем не в сатирическом тоне:
Не имеет значения, какова позиция людей в частной жизни или в беседе с друзьями. Важно то, что люди находятся в постоянном контакте с мощным магнитным полем идеологического воздействия <...>. Они волей-неволей являются частицами в этом поле и получают от него определенный электрический заряд, точку зрения, ориентацию и т.д. Они физически не имеют возможности избежать этого воздействия17.
Юрчак категорически отвергает этот анализ; с его точки зрения, последнее советское поколение не только могло избежать, но и, как правило, избегало силового поля официального дискурса. На самом деле, поздний социализм утратил силу своего притяжения. Словно возражая Зиновьеву, Юрчак подробно цитирует одну из своих информанток, которую он называет Инной (1958 года рождения); свой круг друзей она описывала так:
Мы просто не говорили друг с другом о работе, учебе или политике. Совсем никогда не говорили, и это совершенно понятно — ведь мы не смотрели телевизор, не слушали радио и не читали газет примерно до 1986 года <…>. Мы никогда не говорили о диссидентах. Все всё понимали, так зачем об этом говорить. Это было неинтересно18.
Как надо понимать это парадигматическое описание “вненаходимости”, это разочарование в позднем социализме (или, точнее, разочарование самогоґ позднего социализма)? Если принимать во внимание тонкие прочтения официального дискурса, предлагаемые Юрчаком, и множество трудов социальных и литературных теоретиков, на которые он ссылается, поражает, что Юрчак принимает ретроспективное (то есть постсоветское) описание Инны за более или менее чистую монету. Он, кажется, не испытывает никаких сомнений относительно того, действительно ли некоторые советские граждане с университетским образованием полностью отгораживали себя от телевидения, радио и газет вплоть до почти тридцатилетнего возраста. Его не беспокоит подчеркнуто пренебрежительный характер риторики Инны — “просто”, “понятно”, “никогда”, “все всё понимали”, “неинтересно” — и представленное этой риторикой автоматическое отмежевание от официальной и диссидентской позиций.
Юрчак предлагает еще одно свидетельство из интервью, взятого его коллегой, антропологом Нэнси Рис (Ries), в эпоху, когда все было еще навечно, то есть еще до того, как крушение СССР радикально изменило когнитивные и эмоциональные схемы, посредством которых люди воспринимали поздний социализм. Его характеристику стоит привести:
Описывая общее отношение к диссидентскому дискурсу до перестройки, Нэнси Рис цитирует женщину, которая в 1985-м (до перестройки) заявляла с искренностью и страстью, что Сахаров просто “для нас не существует”. Даже при том, что эта женщина, как большинство, до перестройки, скорее всего, не читала текстов Сахарова, она все же настаивала на том, что он не имеет для нее значения. Ее замечание было не о Сахарове per se, а скорее отражало отношение к воображаемой идеальной диссидентской позиции19.
На самом деле Рис сообщает о том, что “одна женщина в 1985 году самодовольно мне заявила”: “…он [Сахаров] для нас не существует”20. Непонятно, на каком основании Юрчак решил превратить впечатление самодовольства в “искренность и страсть”. Ясно, однако, что Юрчак читает слова женщины как “простое” (еще одна интерполяция) выражение незначимости диссидентов для тех, кто жил в ситуации “вне”. Но, согласно Рис, Сахаров до перестройки не был кем-то просто “лишенным значимости”, но, скорее, лишенным прав и вычеркнутым из социальной жизни, и само его существование должно было отрицаться, то есть активно вытесняться из сознания. Описание Сахарова как “лишенного значимости” в позднесоветскую эпоху, как нам кажется, мало чем отличается от описания Троцкого как “незначимого” для 1930-х годов. В обоих случаях с незначимостью смешивается вытеснение, а само усилие, требующееся для того, чтобы поддержать иллюзию последнего, игнорируется. Под намеренным вытеснением мы подразумеваем как государственное вмешательство, включая ссылку Сахарова в Горький в 1980 году и Троцкого в Алма-Ату в 1928 году (за которой последовало его изгнание из СССР и убийство в Мексике), но и психические усилия индивидов, прилагаемых к тому, чтобы “игнорировать” или “забывать” о существовании этих фигур21.
Подобно информантке Юрчака Инне, женщина, у которой взяла интервью Рис, высказывала нечто иное, чем безразличие, когда описывала Сахарова — используя столь же эмфатический язык — как “не существующего”. Кроме того, ограничивая свое утверждение выражением “для нас”, она, как представляется, подразумевала некоторый уровень осознания субъективного, если не сказать — преднамеренного, характера своего утверждения. К тому же, некоторые из информантов Юрчака позволяют взглянуть на их отношение к диссидентству в несколько иной перспективе. Например, некий Алексей (также 1958 года рождения) рассказывает о своей неприязни к “диссидентствующему” коллеге в издательстве, где он работал: “Он отказывался платить комсомольские взносы, по его словам, “из морального принципа” <…>. То, что он делал, было не только глупо и бесполезно, но и могло создать проблемы для других”. Олеся, 1961 года рождения, считала диссидентствующего студента, учившегося вместе с ней в университете в начале 1980-х, “дураком”.
Юрчак приводит ее характеристику:
Слушать его было тяжело: то, что он говорил, вызывало не испуг, но отвращение. Одно дело — читать Достоевского и совсем другое общаться с его героями <…>. Когда реальный человек стоит перед тобой, постоянно говоря какие-то скептические вещи, это неприятно. Этот человек ожидает от тебя какого-то ответа, но тебе нечего ему сказать. Не потому, что ты не в состоянии анализировать, как он, но потому, что ты не хочешь22.
Нечего и говорить, что все это предполагает что-то совершенно иное, чем отсутствие значимости. Тревожащее, даже угрожающее влияние диссидентской деятельности на некоторых из этих информантов выдвигает на первый план постоянные усилия жить “вне”, попытки искренне “забыть” как об официальном, так и о диссидентском дискурсе, воображать себя в другом месте или замкнуться в самом себе. То, что Юрчак описывает как “нормальное” состояние последнего советского поколения, с нашей точки зрения, представляется тем, что требует значительной степени рефлексии и сознательного отмежевания23.
Юрчак очень хочет избавиться от того, что он называет бинарными оппозициями холодной войны, которые искажают западное, а теперь и постсоветское понимание советского опыта. Его книга действительно предоставляет сильные аргументы против деления позднесоветской культуры на официальную и неофициальную, принудительную и сопротивляющуюся, лживую и правдоискательскую. И все же взамен она предлагает только немного менее упрощенную схему, в которой партийные активисты и диссиденты являются зеркальными отображениями друг друга, разделяя “одни и те же риторические приемы”: те и другие патологически одержимы буквальной истинностью или ложностью официального дискурса, и все вместе оказываются тем “другим”, по отношению к которому определяли себя “нормальные” люди. Кроме того, Юрчак поддерживает идею, что изначальный бинаризм, который он подвергает критике, “может быть возведен к специфической диссидентской идеологии 1970-х годов”24.
Эта позиция любопытна в нескольких отношениях. Во-первых, она игнорирует поразительное сходство между стратегией “вненаходимости” и некоторыми важнейшими диссидентскими стремлениями 1960-х годов — такими, как желание быть “аполитичным”, культивировать “внутреннюю свободу” и искать “серую зону” (как ее назвал Амальрик), где можно быть ни за, ни против официальной идеологии25. Во-вторых, опора Юрчака на “воображаемую идеальную диссидентскую позицию” не принимает в расчет чрезвычайно многообразный характер диссидентства — которое включало тех, кто называл себя плюралистами и националистами, коммунистами и антикоммунистами, — не говоря уже о том, как значительно менялось диссидентство на протяжении времени. Наконец, как часть своей в целом положительной трактовки “детерриториализации” как “шага к большей свободе” Юрчак отмечает, что она “не кодировалась в эмансипационной риторике больших нарративов (таких, как “жить не по лжи”)”26. Но уже принцип Вацлава Гавела “жить по правде” вряд ли можно назвать большим нарративом; напротив, он был сконцентрирован на маленьких, повседневных, символических шагах, которые могли предпринимать обычные люди, чтобы постепенно отделять себя от того, что уже Гавел называл “посттоталитарными” режимами27.
* * *
Пойманный в сети своих собственных бинарных оппозиций или, скорее, трехчастных схем, Юрчак оставляет у читателей такое впечатление о диссидентстве, которое граничит с карикатурой. Возможно, для “вненаходимости” требовалось именно “забывание” и “замыкание в самом себе”. Но выявляется это ценой отказа от исследования исторических сходств между диссидентством и теми, кто находился “вовне”, между “шестидесятниками” и их преемниками, “последним советским поколением”. С нашей точки зрения, более экстенсивная модель советской социальной истории, акцентирующая эти сходства, могла бы способствовать более полному и более глубокому пониманию соответствующих феноменов. Частью любой такой модели, как мы предполагаем, должна быть идея имплицитного общественного договора, существующего на протяжении постсталинской эпохи, результатом которого стала “большая сделка”, описанная Верой Данэм (Dunham) в ее плодотворной работе, посвященной возникновению ценностей советского среднего класса28. При Сталине, согласно Данэм, материальные стимулы все больше конкурировали с моральными, усиливая жажду приобретательства и чувство собственной значимости у растущего круга квалифицированных рабочих и управленцев29. Начиная со времен оттепели, имплицитный общественный договор расширился, включив новые измерения индивидуальной автономии. Наиболее распространенная реакция советских читателей на повесть Баранской, как и весьма амбивалентные критические отклики, которые она тогда вызвала, показывает остроту, с которой в те годы советские мужчины и женщины переживали неопределенные отношения, существовавшие между официальными советскими ценностями и индивидуальной жизнью30. Бесчисленные индивидуальные примеры иллюстрируют, насколько оттепель и начало брежневского периода стали временем текучести, когда политика, практика и дискурс, касающиеся личной автономии, сделались сценой, в рамках которой проблематизировались условия неписаного общественного договора. Из этой проблематизации возникло то, что можно было бы назвать “воображаемой приватной сферой”. Почему “воображаемой”? Потому что советский авторитетный дискурс продолжал предъявлять права, по крайней мере формально, на регулирование всех аспектов общественной жизни, вплоть до самых интимных. Однако это регулирование на практике осуществлялось советскими социальными институциями только в вопросах, вызывавших ощутимый политический или социальный антагонизм, таких как пропаганда диссидентских или антисоветских взглядов и распространение соответствующей литературы. Со своей стороны люди занимались реализацией своих собственных личных эстетических, интеллектуальных и других проектов, “как если бы” они пользовались повышенной автономией частной жизни — нередко ставя перед собой цели, которые отклонялись от целей всего общества. Тем не менее советские мужчины и женщины также учились сохранять видимость лояльности к общим социальным институциям, дискурсивным практикам и идеалам и, что наиболее важно, игнорировать или сглаживать более масштабные социальные и особенно политические последствия своего собственного нонконформистского поведения. Социальная конструкция, которую мы здесь описываем, также была “воображаемой” в том смысле, что находилась на особом “карантине”, который удерживал ее на расстоянии от авторитетного дискурса и официально санкционированных форм выражения. Публичная сфера в своем классическом виде, так, как она предстает, когда речь идет о либеральных обществах, является местом, где множество частных интересов, мнений и голосов могут вступить во взаимодействие и обрести вес на рынке идей. В этом виде публичное и приватное конституируют друг друга в динамическом обмене31. Хотя автономные идеалы и ценности действительно уже были артикулированы в неофициальных социальных сетях и медиа (что Воронков и Вилгос обозначили термином “частная публичная сфера”), они были эффективно изолированы от всего общества посредством цензуры, репрессий и общественной стигматизации. Поэтому по сравнению с приватной сферой в либеральном обществе позднесоветская воображаемая приватная сфера была как более изолированной от официально санкционированного социального выражения, так и менее автономной, поскольку над ней довлела общественная власть.
В течение 1970-х годов этот новый общественный договор все больше становился основой социальной практики. Отбросив описанное Баранской болезненное разъединение между социальным и личным, воображаемая приватная сфера порождала безразличие к неспособности авторитетного дискурса описывать и еще меньше регулировать социальную реальность, которую он должен был охватывать. Но какими средствами поддерживался этот общественный договор? Устойчивость воображаемой приватной сферы, в которой авторитетный дискурс и индивидуальные ценности в принципе накладывались друг на друга, а на практике не пересекались вовсе, предполагала те самые социальные и дискурсивные типы поведения, которые Юрчак описывает в своей книге. Стеб, “вненаходимость” и так далее были средствами, при помощи которых в позднюю советскую эпоху сохранялось социальное равновесие — когда индивидам предоставлялась “позиция, которая была одновременно внутри и снаружи риторической области [авторитетного] дискурса, не будучи ни просто его поддержкой, ни просто оппозицией”. Во многих важных отношениях эта воображаемая приватная сфера была или параллельна, или эквивалентна другим хорошо известным структурным особенностям позднего советского общества. В частности, работа Алёны Леденёвой о блате в позднюю советскую эпоху демонстрирует, как всепроникающая сеть неофициальных экономических отношений функционировала в схожем квазиавтономном дискурсивном пространстве, которое подпадало под сферу действия авторитетного дискурса, ее, однако, как бы не замечавшего. Это пространство было изолировано от осуждения или запрета схожими приемами юмористического и иронического игнорирования социального парадокса32.
* * *
Позвольте вернуться к предмету, с которого началось наше эссе: предпосылок и причин крушения Советского Союза. Мы не видим оснований предполагать, что крушение был неизбежным следствием поздней советской истории, и, конечно, та специфическая форма, которую он принял, не была единственно возможной. По всей вероятности, советский порядок мог существовать еще долгие годы, отчасти благодаря разрешению социальных и политических конфликтов периода оттепели посредством появления воображаемой приватной сферы и связанных с ней феноменов, таких как блат, отмеченная Юрчаком “вненаходимость” и т.д. Далее, мы не сомневаемся, что основная причина крушения СССР лежит в реформах Горбачева, которые сами были ответом — вряд ли обязательным — на экономические и социально-бытовые условия, являвшиеся неотъемлемой частью имплицитного общественного договора позднего советского периода. Какое же тогда отношение имели дискурсивные конструкции, проанализированные Юрчаком, к краху советского порядка? Юрчак предполагает, что горбачевские изменения дискурсивного порядка в Советском Союзе надо рассматривать как вмешательство в устойчивую систему “голоса внешнего комментатора или редактора от идеологии”. Однако надо напомнить, что, особенно в первые годы перестройки, Горбачёв действовал не как занимающий внешнюю позицию редактор официального дискурса, а как тот, кто сам пытается реанимировать дискурс, возвращаясь к тому, что он называл “ленинскими нормами”. Действительно, таким консерваторам, как Егор Лигачев, сначала было трудно публично выступать против реформ Горбачева, именно потому, что новый генсек отстаивал их на очень хорошо знакомом, безукоризненно советском языке. Кроме того, большая часть того, что сообщило перестроечным реформам их непредвиденную политическую силу, восходит к процессам, которые имели место в воображаемой приватной сфере на протяжении предшествующих десятилетий. Как отмечает Юрчак, “вненаходимость” была тем “динамическим местом, где производились новые значения”. Хотя Юрчак утверждает, что такие альтернативные области значений были исключительно аполитичны — ни за, ни против существующего порядка, нам представляется, что этот “аполитизм” надо рассматривать в какой-то мере как идеологическую маску, одну из конвенций прежнего общественного договора, управляющего воображаемой приватной сферой. Как отмечалось выше, осуществление личных жизненных планов в поздний советский период было основано на том, что все действовали так, словно у этих планов не было какого-то более масштабного политического значения. Тем не менее большая часть того, что происходило в воображаемой приватной сфере, в действительности имело важное политическое значение, — значение, которое в то время оставалось скрытым. Мы вовсе не стремимся отвергнуть или поставить под сомнение ощущение людей, что они находились вне политики, создавая свою собственную альтернативную социальную реальность. Тем не менее люди не всегда определяют социальный или политический резонанс собственного языка или поведения. Возможно, предстоит еще обозначить такие альтернативные области значений как политический “потенциал”, структурно скрытый в воображаемой приватной сфере. Во всяком случае, с нашей точки зрения, дискурсивные преобразования перестройки в значительной мере представляли собой приход этих политических потенциалов в общественную и политическую жизнь, начало чему было положено государством.
Короче говоря, мы предполагаем, что позиция аполитичного, альтернативного поведения скрывала политическую энергию, которая вырвалась наружу в результате горбачевских реформ, и что Горбачев не выступал в качестве “внешнего” комментатора, а как бы играл роль лениниста, чья возрожденная социалистическая риторика невольно привела к тому, что оказался сорван идеологический фиговый листок, который скрывал и делал возможным существование воображаемой приватной сферы. Траекторию советской социальной истории, которую мы предлагаем, хорошо демонстрирует судьба некоторых фрагментов повести Баранской. Рукописный вариант повести “Неделя как неделя” включал намного более подробное изображение обсуждавшегося нами выше политзанятия, которое Ольга и другие сотрудники посещают безо всякого желания. В полном варианте повести Ольга горячо спорит с руководителем семинара по поводу “социальных противоречий в бесклассовом обществе”. В этом варианте произведения Ольга не может сдержаться и взволнованно высказывает свое мучительное ощущение “противоречия” между личным существованием и профессиональной жизнью: “Эмансипация, заброшенный дом, распущенные дети, разваленные семьи, это что, не противоречие? Дети-одиночки, без братьев-сестер. Мать загружена, перегружена. Нагрузки растут, а где забота?”33 В конце, когда руководитель семинара спрашивает, что же ей нужно, она заявляет: “Освободите меня от политзанятий, не могу, не успеваю!” На это она получает ответ, что освободить ее может только партком. Помимо понятного желания Ольги выкроить себе хоть какой-то “досуг”34 в ее до абсурда загруженном дне, высказанное ею требование означает, что партия и авторитетный дискурс не только не могут решить те сложные проблемы, с которыми она сталкивается, но отныне сами являются их частью. Содержание этого фрагмента и тот факт, что он не вошел в опубликованный вариант 1969 года, свидетельствуют, что политический потенциал самой воображаемой приватной сферы и того, что в ней происходило, вычеркивался35. И также несомненно, что появление этого фрагмента в новой публикации повести Баранской в 1989 году демонстрирует возрождение этого потенциала во времена перестройки, когда альтернативные значения вышли из социального карантина. Что вызревало в течение этих двадцати лет? Поразительное разнообразие националистических, религиозных, либеральных, неокоммунистических и других устремлений, общим знаменателем которых теперь стало желание жить в обществе, которое характерным образом (хотя и не слишком определенно) именовали тогда “нормальным”. Те, кто жил во “вненаходимости” в 1970-х и в начале 1980-х годов, возможно, считали себя, в отличие от диссидентов и партийных активистов, “нормальными людьми”, но то, как быстро они в свою очередь начали описывать советское общество как “ненормальное”, заставляет предположить скрытое присутствие политического скептицизма еще задолго до выхода Горбачева на политическую сцену. Даже те люди, жизненные планы которых не имели явного политического значения, стали соглашаться с тем, что приватная сфера, в которой индивидуальные идеалы и поведение могут проявлять себя, не будучи при этом обременены социальным или политическим контролем, — это общественное благо, которое надо защищать. Мы полагаем, что это стремление (в позднесоветской жизни оно вышло на первый план не в результате какого-либо конкретного политического движения, но как непреднамеренное следствие оттепели и связанного с ней возникновения воображаемой приватной сферы) сыграло свою необходимую роль в горбачевскую эпоху и в последующее время.
Авторизов. пер. с англ. Н. Мовниной
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Если не слишком углубляться в этот вопрос, то, с нашей точки зрения, социальная жизнь предстает одновременно и как структура значений, поддерживаемая дискурсом, и как конкретные институции, практики и тела. Попытки разделить эти два аспекта или отдать приоритет одному из них, как правило, оборачиваются теоретической непоследовательностью. См.: Luhmann Niklas. Social Systems / John Bednarz, Jr. and Dirk Baecker, trans. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1995.
2) Yurchak Alexei. Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006. P. 1.
3) Tocqueville Alexis de. The Old Regime and the French Revolution / Translated by Stuart Gilbert. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1955. P. 1.
4) Beissinger Mark. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. New York: Cambridge University Press, 2002. Р. 26. Учитывая, что в центре этой книги находится то, что Бейсингер описывает как переход “от невозможного к неизбежному”, вызывает удивление, что Юрчак не использует это важное исследование.
5) Foucault M. The Archaeology of Knowledge / A.M. Sheridan Smith, trans. London: Tavistock Publications, 1972. 6 Yurchak A. Op cit. P. 291. 7 Ibid. P. 291. 8 Ibid. P. 288.
9) Показательные интерпретации этого произведения см. в: Кашкарова Е. Женская тема в прозе 60-х годов: Наталья Баранская как зеркало русского феминизма // Все люди сестры. Бюллетень ПЦГИ. СПб., 1996. № 5. С. 57—69 (повторно опубликовано на сайте: http://www.a-z.ru/women/texts/kashkarr.htm); Lahusen Thomas. “Leaving Paradise” and Perestroika: “A Week Like Any Other” and “Memorial Day” by Natal’ia Baranskaia // Fruits of Her Plume: Essays on Contemporary Russian Women’s Culture / Helena Goscilo (Ed.). Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1993. P. 205—224; Sutcliffe Benjamin M. The Prose of Life: Russian Women Writers from Khrushchev to Putin. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press, 2009. Р. 24—57.
10) См.: Baranskaya Natalya. A Week Like any Other: Novellas and Stories. Seattle, 1989. Р. 8—9.
11) Kharkhordin Oleg. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley: University of California Press, 1999. P. 279—280 [рус. пер.: Хархордин О.В. Обличать и лицемерить: Генеалогия российской личности М.; СПб., 2002].
12) См., например: Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1982; Он же. Психологическая теория коллектива. М.: Педагогика, 1979.
13) Сигов М.А. Любовь, брак и семья в советском обществе: В помощь лектору, выступающему перед молодежью. М., 1959. С. 21; цит. в: Field Deborah A. Irreconcilable Differences: Divorce and Conceptions of Private Life in the Khrushchev Era?// Russian Review. Vol. 57. № 4. 1998. Oct. P. 599—613, цит. на р. 603.
14) Авторы хотят выразить благодарность Илье Кукулину за то, что он обратил их внимание на этот важный факт социальной истории, а также за его участие в работе над ранним наброском этого эссе и помощь с рядом библиографических вопросов, касающихся Баранской и ее жизни.
15) Field D. Op. cit. P. 613.
16) См. важную работу: Бикбов А. Тематизация “личности” как индикатор скрытой буржуазности в государстве “зрелого социализма” // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007. С. 404—426. — Примеч. ред.
17) Цитируется в: Hosking Goeffrey. The First Socialist Society: A History of the Soviet Union From Within. Cambridge: Harvard UP, 1996. P. 404.
18) Yurchak A. Op cit. P. 129.
19) Yurchak A. Op cit. P. 106.
20) Ries Nancy. Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika. Ithaca: Cornell UP, 1997. P. 182 [рус. пер.: Рис Н. Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛО, 2005].
21) На заседании Политбюро в сентябре 1973 года Брежнев сравнил Сахарова с Троцким и поднял вопрос о возможности его ссылки в Сибирь. См.: Кремлевский самосуд: секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне / Сост. А.В. Коротков, С.А. Мельчин, А.С. Степанов. М.: Родина, 1994. С. 329—330.
22) Yurchak A. Op cit. P. 107—108.
23) Ibid. P. 128.
24) Ibid. P. 6, 104, 107, 130.
25) Daniel Aleksandr. Wie freie Menschen: Ursprung und Wurzeln des Dissens in der Sowjetunion // Samizdat. Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: die 60er bis 80er Jahre / Wolfgang Eichwede (Hg.) Bremen: Edition Temmen, 2000. S. 38—50.
26) Yurchak A. Op cit. P. 125.
27) См. также: Килбурн М. Антиполитическая политика и антипоэтическая поэтика: эстетика чешского андеграунда / Пер. с англ. // НЛО. 2008. № 91. С. 266— 305. — Примеч. ред.
28) Dunham Vera. In Stalin’s Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Durham: Duke University Press, 1990.
29) Распространение этого аргумента в отношении экономических стимулов в брежневскую эпоху можно найти в статье: Millar James R. The Little Deal: Brezhnev’s Contribution to Acquisitive Socialism // Slavic Review. Winter 1985. Vol. 44. № 4. P. 694—706.
30) Биография самой Баранской отражает усиливающееся в советской жизни противоборство между индивидуальной автономией и социальной властью. Ее писательская карьера началась в результате вынужденного ухода на пенсию в 1966 году с престижного высокого поста в Пушкинском музее. Поворот в ее жизни происходит после официального осуждения Баранской за то, что она организовала вечер памяти Ахматовой в музее, а также выставила там фотографии Ахматовой с ее первым мужем, запрещенным поэтом Николаем Гумилевым. Сенсация, которую произвела публикация первых рассказов Баранской и особенно повести “Неделя как неделя” в ведущем либеральном журнале “Новый мир”, демонстрирует, насколько важными были поднятые ею темы для советских читателей. Ее произведения брали за живое, и не вызывает сомнения, что ключевым аспектом повести “Неделя как неделя” была ее оригинальная трактовка жизни женщин и советского “двойного стандарта”. Как отмечалось выше, именно этот аспект находился в центре внимания тех, кто исследовал это произведение. С нашей точки зрения, однако, проведение четкого различия между “женскими вопросами” и обобщенными проблемами социальной жизни, которые мы обсуждаем в этой статье, представляется достаточно искусственным. Критические отклики современников на повесть позволяют предположить, что взаимосвязь между личным существованием и социальной властью в целом была важным элементом проблематики повести, хотя эти вопросы рассматривались в конкретных рамках жизни женщин. См., например, критику этого произведения в журнале “Знамя” в 1970 году за то, что оно не предлагает способа преодолеть разрыв между частным опытом и общественными идеалами: Ковский Вадим.Человек в мире творчества // Знамя. 1970. № 11. С. 210—226, особенно с. 224—225. После дебюта положение Баранской в советской литературе продолжало оставаться маргинальным. Хотя она смогла напечатать и другие рассказы, ее приняли в Союз советских писателей только в 1979 году: недавно опубликованная стенограмма заседания секретариата Московского отделения Союза писателей в январе 1979 года показывает, что ее имя и двусмысленный статус в советской литературе продолжали ассоциироваться с повестью “Неделя как неделя”. См.: Заламбани Мария. “Дело МетрОполя”: Стенограмма расширенного заседания МО СП СССР от 22 января 1979 года // НЛО. 2006. № 82. С. 260. См. в особенности примечание 121. Сведения о биографии Баранской см. в ее тексте: Автобиография без умолчаний // Грани. 1990. № 156. С. 122—148. См. также ее появившуюся позже семейную историю: Баранская Н. Странствие бездомных: жизнеописание. М., 1999.
31) Habermas Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society / Thomas Burger and Frederick Lawrence, trans. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989.
32) Ledeneva Alena V. Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998. В недавнем докладе Ледёневой на конференции “Тоталитарный смех” (Принстон, апрель 2009 года) исследовалось явление “понимающей улыбки” как средства обсуждения отношений между неофициальными экономическими действиями и официально санкционированными социальными практиками и языком.
33) Баранская Наталья. День поминовения: Роман, повесть. М.: Советский писатель, 1989. С. 299. На то, что более позднее издание этого произведения было дополнено, мы обратили внимание благодаря книге: Lahusen T. “Leaving Paradise” and Perestroika… P. 215.
34) “Чушь какая-то... Досуг. Я лично увлекаюсь спортом — бегом. Туда бегом — сюда бегом. В каждую руку по сумке и… вверх — вниз: троллейбус — автобус, в метро — из метро”.
35) Баранская сообщала, что изъятие этого фрагмента было предпринято редакторами “Нового мира”, то есть Твардовским, с ее согласия. См.: Баранская Н. Автобиография без умолчаний. С. 144. Запись в дневнике Твардовского, соответствующую публикации этого произведения, см.: Твардовский Александр. Рабочие тетради 60-х годов / Публ. В.А. и О.А. Твардовских // Знамя. 2004. № 11. С. 174.